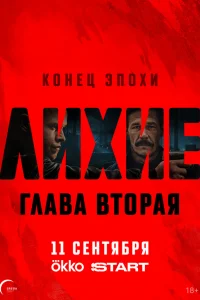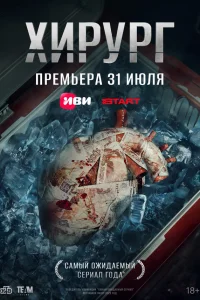Она вошла в комнату без камерной иллюзии — только стол, две стулья и диктофон, поставленный на ближайшую полку. Серийный убийца сидел напротив, невозмутимый и удивительно точный в выражениях; известная журналистка держала руку на блокноте, чтобы не дрогнуть. Интервью началось с холодной вежливости: вопросы о детстве и привычках, затем — о мотиве и о том, почему он согласился говорить именно ей. Он отвечал размеренно, иногда останавливаясь, словно подбирая слова, чтобы не выдать лишнего. И хотя речь шла о преступлениях, подробностей, способных шокировать, он избегал — скорее наблюдение, рассуждение о собственной жизни и реакции общества. Журналистка следила за интонацией, за паузами, за мелочами, которые делали человека перед ней одновременно обычным и чуждым.
С каждой минутой напряжение нарастало: эксклюзив обретал форму не столько сенсации, сколько испытания нравственных границ. Он признавал ответственность, но не в приносном, тривиальном смысле; скорее объяснял, как видел мир. Иногда в его голосе мелькала ирония, иногда — усталость. Она задавала вопросы, требующие конкретики, и иногда получала уклончивые ответы, иногда — прямую провокацию. В конце разговор затих: журналистка взяла паузу, чтобы понять, что отдать читателям — пустые слова или ключ к пониманию. В коридорах редакции уже обсуждали этические последствия: дать эфир правде или лишить её платформы? Эксклюзив стал испытанием для обеих сторон: для него — возможностью контролировать образ, для неё — выбором между желанием раскрыть правду и обязанностью не становиться соучастницей спектакля.