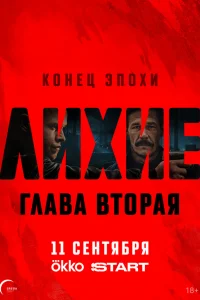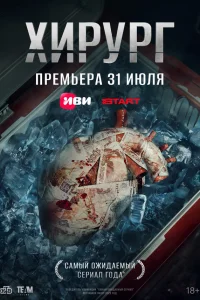Она приходит в себя в холодном подвале, тело болит, воздух густ от железного запаха крови. Вокруг валяются тела — неподвижные, чужие лица в полуосвещении кажутся масками без выражения. Каждый вдох отдаётся резью, пальцы липнут от пота; светильник где-то далеко дребезжит, и шаги сверху будто отдают в грудной клетке. Она понимает, что шевелиться опасно: любое движение может выдать её и стоить жизни. Поэтому лежит неподвижно, прижимая руку к ране, притворяясь мертвой так искусно, будто сама верит в эту маску покоя. Тишина подвала режет слух — только капли воды падают в пустоту и еле слышное дыхание, смешанное с шорохом ткани.
Над головой дом живёт своей, чужой жизнью: по лестнице неслышно сходятся и расходятся фигуры, голосов много, но они слышатся как приглушённый ритм. Из верхних комнат доносится сводящий с ума гул — ритмичные звуки, шёпоты, которые то нарастают, то затухают; в них скользит что-то зловещее, будто старые обряды возвращают свои голоса. Она держит глаза прикрытыми, считая секунды, слушая, как таинственное действо разворачивается в доме наверху. Каждое движение там, каждый шорох могут означать смерть или шанс на спасение — но пока что единственное её оружие — притворство.
Холод бетона и тяжесть потерянных надежд прижимают к земле, но инстинкт выживания не отпускает. Она переживает моменты, где прошлое и настоящее смешиваются: память о доме, реальность о крови, и неизбежность того, что ритуал наверху продолжает своё дело, пока внизу царит ложный покой.